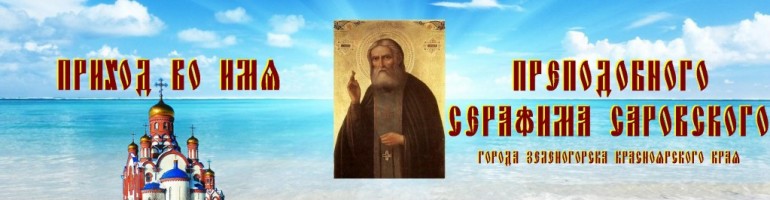ПРИНЦИПЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ РУСИ
— протоиерей Александр Николаевич Зелененко, кандидат богословия
«… Русский народ всю свою жизнь предстоял Богу… он знал свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя Божиими мерилами; что через все его уклонения и падения, несмотря на них и вопреки им, душа его всегда молилась и молитва всегда составляла живое естество его духа».
И.А.Ильин
Православие, пришедшее в Древнюю Русь из Византии в Х веке, стало духовно-религиозной основой ее бытия, определило лицо древнерусской педагогики[1]. Воспитательные традиции, на которые опиралась педагогическая мысль древней Руси, насчитывают более двух тысяч лет. Воспитание детей происходило в соответствии с необходимостью наследования подрастающим поколением общественно-исторического опыта, накопленного предыдущими поколениями, с целью подготовки к самостоятельной жизни и труду. Большое влияние на воспитание детей, уклад и традиции народной жизни оказывала Православная Церковь. Она стремилась оказывать свое благотворно-воспитательное влияние на все сферы деятельности и сознания, на все жизнеустроение человека. Наследование и преемственность осуществлялись на основе православной веры, народных традиций и семейного воспитания. С помощью традиций создавались основы физического, трудового, эстетического, умственного и религиозно-нравственного воспитания. Традиции и обычаи выступали как две взаимосвязанные формы воспитательного воздействия на подрастающее поколение. Мудрость, учительность и педагогичность были свойственны всей древнерусской культуре. Но не верно думать, что эти духовно-педагогические качества исключали практичность и полезность. Напротив, они были жизнеприложимы и культура дорожила одними, чтобы не потерять другие,не оказаться исчерпанной тем или иным конкретным практическим результатом, но приносить их всегда, оставаясь духовно неисчерпаемой[2].
Педагогическая мысль древней Руси постоянно соприкасалась с педагогическими ценностями Византии и других соседних стран, ощущая на себе их определенное влияние. Усвоение религиозно-нравственного, философского и педагогического древнегреческого наследия являлось необходимым этапом в развитии культуры и педагогики на Руси. Русские книжники и церковные деятели, знавшие греческий язык, читали труды античных и религиозных мыслителей в оригинале. Киевский Митрополит и философ Климент Смолятич (XII в.) писал, что он читал “Гомера, и Аристотеля, и Платона, которые среди греческих столпов славнейшими были”.[3]
Знакомство с делом древнерусского народного воспитания и образования отмечал Модзалевский Л.Н., показывает, что “многие принципы, открытые нами как новость в немецкой педагогике и вообще в иностранной школе, были известны русским в глубокой древности, от которой мы были оторваны европейской образованностью, разом нахлынувшей на верхний слой русского общества и лишившей его знания и понимания своей собственной родной старины.”[4]
Изучение древнерусской литературы, традиций народной жизни и педагогической культуры таит в себе много открытий.
Педагогические принципы в монастырской жизни
Особое, ведущее значение в просвещении народа имели на Руси многочисленные монастыри. Монастыри были подлинными “университетами”, где древнерусский человек получал истинное образование и воспитание, освобождавшее его от рабства страстям и делавшее его настоящим христианином и верным сыном своей Родины. Знания, получаемые в монастырских школах, сочетались с социальным служением людям: бедным и несчастным здесь подавалось телесное утешение раздачей милостыни, ищущим спасения создавались условия и давалось руководство для подвижнической жизни. Русские люди видели в монастырях живые примеры истинно-христианской жизни. Неудивительно, что монастыри имели столь большое нравственное влияние на общество.
Монастырь давал не только православное воспитание. Вся русская книжность шла из монастырей. В монастырях писались летописные своды. Через них народ постигал уроки истории, учился видеть действие Божественного Провидения в своем бытии и его важнейших событиях. Проверенная критерием истинной мудрости и чистоты литература закладывалась в основу всего образования на Руси, которое всегда было подчинено высшей цели — духовному и нравственному становлению человека, его возрастанию в добродетели.
Монастырь на Руси был также школой хозяйствования, трудолюбия, школой взаимного братского служения друг другу и школой мужества: когда Русской земле угрожал внешний враг, монастыри превращались в крепости.
Некоторые монастыри получили особое значение (Киево-Печерская, Троице-Сергиевская лавра). Монастыри имели огромное влияние на общество в целом; неудивительно, что образовательное влияние монастырей давало преобладание в обществе религиозному строю жизни.
При изучении педагогического наследия Древней Руси особого внимания заслуживает воспитательный подвиг преп. Сергия Радонежского (+ 1391) — в нем отражено все наиболее значимое в этом наследии, все, что сохраняет непреходящую ценность.
Среди великого сонма русских святых преподобный Сергий Радонежский выделяется как звезда первой величины, его слава «высшей, солнечной природы»[5]: Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда тот звезды разнится в славе (1 Кор. 15,41). К преподобному Сергию припадает православная Русь в самые трудные и ответственные моменты своего исторического бытия. Его величают избранным Воеводой, Ангелом-Хранителем, Игуменом Русской земли, обителью Святой Троицы. Еще во чреве матери начинается его молитвенное служение Три ипостасному Богу — и продолжается на протяжении всей земной жизни и в блаженной вечности. Его богословские откровения о Святой Троице, запечатленные в иконе преп. Андрея Рублева, обнаруживают особую творческую связь святого с душой русского народа, его высшим религиозным, историческим и культурным призванием. Братство людей, готовая на жертву любовь между ними, их духовное единство, ориентированное на высшее единство Отца, и Сына, и Святаго Духа — вот как можно это призвание определить. Оно было в полной мере осуществлено в жизненном пути преподобного.
Варфоломей («сын радости») был воспитан благочестивыми родителями, Кириллом и Марией, в наше время причисленными к лику святых, в богопочитании, особой любви к странноприимству, смиренномудренному послушании. Святой на длительное время смиренно откладывает уход из мира, исполняя волю родителей. И только после их блаженной кончины удаляется на Маковец, в дебри нехоженых Радонежских лесов, где принимает постриг с именем Сергия и строит храм во имя Живоначальной Троицы — «дабы непрестанным воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего».
«Ненавистная рознь», казалось, торжествовала в те времена «среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь»[6].
Преподобный Сергий выступил против духа времени. Если выразить в двух словах дело его жизни, то этими словами будут «единение«, «собирание«. Вначале он собирает воедино силы своей души, затем собирает вокруг себя учеников, возрождает древнее монастырское общежитие. Наконец, он собирает воедино всю Русь.
Собрать себя — значит собрать главные внутренние силы души — ум, чувства, волю; очистить ум и сердце от всякой скверны; освободить волю от эгоистических стремлений, всецело предать себя Богу. По мысли древних, «подобное познается подобным». Восстановление внутреннего единства, целомудрия — важнейшее условие познания Бога, Единосущного и Нераздельного в Троице. Тогда мир, всякий ум превосходящий, водворяется в душе подвижника. Он озаряется, проникается Фаворским светом.
XIV век, когда жил преп. Сергий — период высшего расцвета на Афоне исихазма — учения о стяжании Божией благодати, ее нетварной энергии, об озарении, обожении души через делание Иисусовой молитвы.
В это же самое время на Западе процветает гуманизм, утверждающий независимость человеческой личности от Бога и Церкви.
Православные Греция и Русь тоже сосредоточены на проблеме личности, но в противоположном смысле: человек по-настоящему становится личностью (а не «творческой индивидуальностью») и во всей полноте обретает себя не через самоутверждение, а через самоотдачу — предав себя в волю Божию, восходя к Богу и соединяясь с Ним. Запад направил развитие личности по горизонтали «самосовершенствования» — Восток избирает духовную вертикаль.
Преподобный Сергий двигался в этом направлении, сочетая сугубые аскетические подвиги с освоением книжной премудрости.
Всем, кто читал житие преподобного Сергия, кто всматривался в известную картину М. Нестерова «Видение отрока Варфоломея», памятна встреча юного подвижника с таинственным старцем на поляне под высоким дубом. Мальчик, как известно, поделился с ним своим горем: грамота никак не давалась ему, и старец, помолившись, благословил отрока и дал ему из ковчежца кусочек просфоры — «в знамение благодати Божией и разумения Святаго Писания»[7].
Очень важно то обстоятельство, что книжная премудрость была обретена святым не на основании природных способностей, а как дар свыше. Это означает, что в лице преподобного Сергия Сам Господь благословил Православную Русь идти путем стяжания книжной учености, возделывания высокой духовной культуры. В данном отношении путь Руси оказался ближе не тем восточным странам, где подвижники-аскеты полностью отрицали образование и культуру, а просвещенной Византии, где блистали имена святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Симеона Нового Богослова, Григория Паламы…
Основание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры было положено преп. Сергием. Из духовного богатства православной книжности он выделил самое существенное — литературу, которая научала внутреннему деланию в молитве. В монастыре переписывались творения Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея, Исаака Сирина, Григория Синаита, Симеона Нового Богослова. Все основные направления древнерусской культуры — архитектура, иконопись, литература — получили мощный толчок для своего развития в обители преподобного Сергия. Слово «культура» в переводе означает «возделывание», «обрабатывание». Особенность нашей отечественной культуры в том, что она главным образом направлена на «возделывание» человеческого сердца. Это есть «высшее художество», и преп. Сергий был искушен в нем в полной мере.
Он воздействовал на учеников дивной светозарной красотой внутреннего облика и личного примера. Вот как описывает этот облик ученик преподобного и автор первого его жития св. Епифаний Премудрый: «Тихость, кротость слова, молчание, смирение, простота без пестроты, любовь равная ко всем человекам»[8].
Напомним, что все эти качества, свидетельствующие о сосредоточенном светлом покое были достигнуты в одну из самых тревожных и трагических эпох на Руси. Преподобный Сергий показал, что значит истинная духовная нравственная свобода, неподвластная внешним условиям, неблагоприятным обстоятельствам времени. Такая свобода может быть обретена только при глубоком смирении. Это видно из жития преподобного.
В зрелые годы святой неоднократно творил чудеса, но всякий раз строго наказывал свидетелям молчать об этом. А в самом начале своего подвига, несмотря на горячие просьбы братии, он долго не соглашался стать игуменом: «Желаю лучше учиться, чем учить, лучше повиноваться, чем начальствовать». Но когда епископ Афанасий повелел ему принять игуменство, — преп. Сергий, как всегда, смирился, уступил. Однако не изменил обычного образа жизни: таскал бревна, колол дрова, носил воду для братии, пек просфоры, кроил и шил одежду — словом, работал на всех, по выражению преп. Епифания, «как раб купленный». Летом и зимой ходил в одной старенькой рясе, и она была беднее и хуже, чем у любого из иноков его. И в обители Сергиевой поначалу было столько материальных недостатков, сколько заплат на рясе игумена — «все худостно, все нищенско, все сиротинско». Но при такой нищете игумен строго-настрого запрещал братии побираться — хлеб можно было добывать только своим трудом или за счет добровольных пожертвований. Преп. Сергий своим примером утверждал святость труда и раскрывал его смысл — служение ближнему в смирении и любви. Именно деятельная любовь является для православного человека источником и целью труда, а не корысть, не нажива.
Любовь проверяется делами, а не словами. Преп. Сергий настойчиво искоренял в своей обители празднословие. Он имел обыкновение после вечерней службы дозором ходить мимо келий. И если слышал праздные разговоры — легким стуком призывал прекратить их, а на другой день кротко, но твердо вразумлял провинившихся.
Как отмечал В.О. Ключевский, каждого ученика преп. Сергий «вел своим путем, не спуская глаз с каждого новичка, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам«[9].
Его горячее и неотступное молитвенное предстательство за учеников — еще один величайший пример для нас: молитва за воспитуемых есть основа основ православной педагогики.
Молитвы преп. Сергия об учениках были услышаны: множество птиц явилось ему в знаменитом видении, где предсказано было, что святые чада его разлетятся из родного гнезда и в разных концах Русской земли прославят Господа. И действительно, многие ученики преп. Сергия стали великими духовными подвижниками: «тихий и кроткий» Андроник, впоследствии настоятель Спасского монастыря, вырастившего Андрея Рублева, «пустыннолюбивый» Мефодий Пешношский, преп. Афанасий, славившийся книжной премудростью, преп. Феодор, его племянник и любимый ученик, впоследствии игумен Симоновского монастыря, преп. Никон Радонежский, преемник преп. Сергия, блаженные Роман, Феодор, Павел — всех не перечислить… Академик Ключевский писал: «По последующей самостоятельной деятельности учеников преподобного Сергия видно, что под его воспитательным воздействием лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого[10]«.
Таким образом, преп. Сергий был строителем соборности как свободного единодушия и единомыслия православных христиан, каждый из которых вносит неповторимый вклад в полноту церковного и общественного бытия. Идеал соборности коренится в единстве Лиц Святой Троицы, неслиянном и нераздельном. К этому же Первообразу восходит и образ монастырского общежития, введенного преп. Сергием в его обители.
Ученики преп. Сергия создавали новые и новые монастырские обители с общежительным уставом. Они притягивали к себе мирян, которые постигали на живых примерах, что каждый человек должен благоговеть перед Творцом всяческих, сострадать и помогать ближнему, нести ответственность за низ лежащий растительный и животный мир. Здесь учились братской взаимопомощи, учились хозяйствовать по-христиански, здесь копился экологический опыт народа.
Вокруг «Сергиевых» монастырей (их при жизни преподобного насчитывалось около сорока) расцветала жизнь, на православной основе формировалось национальное единство, крепло и ширилось русское государство.
Преп. Сергий звал русский народ не просто к единению, а к единению по образу и подобию Святой Троицы. Такое иерархическое подчинение идеи национального единства высшей реальности Божественного единства Св. Троицы — один из важнейших уроков преп. Сергия. Ведь любое человеческое единство, эгоистически замкнутое на себе, неизбежно приводит не к любви, а к противостоянию, к ненависти, к борьбе с другими такими же единствами.
Центром образа Св. Троицы преп. Андрея Рублева является Жертвенная Чаша. Если единство народа имеет как основу такой Первообраз, этот народ не сможет ненавидеть, презирать, притеснять другие народы — он будет нести им свет жертвенной Евангельской любви.
Преп. Сергий благословил великого князя Димитрия и русское воинство на Куликовскую битву, в которой, как известно, Русь выпила жертвенную чашу не только за свою независимость, но и за всю христианскую Европу. Огромный вклад в победу на поле Куликовом внесли ученики преп. Сергия Александр Пересвет и Андрей Ослябя, принявшие славную кончину «за други своя».
Русский православный писатель-эмигрант Б.Зайцев в своей книге о преп. Сергии утверждает: «Ханы величайше ошибались,… щадя монастыри. Сильнейшее — ибо духовное — оружие против них готовили смиренные святые типа Сергия, ибо готовили и верующего, и мужественного человека»[11].
Благословляя благоверного князя Димитрия на Куликовскую битву, преп. Сергий так определил ее внутренний смысл: «За Имя Христово, за веру Православную нам подобает душу свою положить и кровь свою пролить»[12].
И после преставления к Богу преп. Сергий не оставлял своего попечения о верности русского народа Православию: например, во времена Флорентийской унии он явился пресвитеру Симеону, много претерпевшему за отказ подписать отступнический документ, и укрепил его. В Смутное время преподобный трижды явился Козьме Минину со строгим требованием идти на Москву и освободить стольный град от власти иноверных…
Хранить веру православную как основу национального бытия — главный завет преп. Сергия. Вчитаемся внимательно и в другие его заветы — в них мы найдем важнейшие ориентиры того пути, по которому призвана проходить православная жизнь и отечественная педагогическая традиция. Эти заветы великий святой высказал в прощальной беседе с учениками. Вот они: «Чада возлюбленные, непреткновенно пребывайте в Православии и единомыслие друг другу храните. Храните чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную. От злых и скверных похотей остерегайтесь. Пищу и напитки вкушайте трезвенные, а особенно смирением украшайте себя. Страннолюбия не забывайте, от противоречия уклоняйтесь и ни во что ставьте честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяние ожидайте, небесных вечных благ наслаждения.»[13]
Вся монастырская педагогика в целом христоцентрична, экклезиоцентрична и нравственно-аскетична. В ней можно найти в том или ином виде многие основные принципы православной педагогики, названные нами в данной работе принципами педагогической взаимности: здесь вне сомнения, присутствовали любовь и богобоязненность, личностно-уважительный подход и личный пример, иерархичность и смиренномудренное послушание, воцерковление, соборность и патриотичность. Неудивительно поэтому, что русский человек искал духовного окормления прежде всего в монастыре, понимая, что этот “корабль отцов” достаточно надежен, чтобы устоять в житейском бурном море и управить к Господу нашему Иисусу Христу.
Главными принципами монастырской педагогики были: богопосвященность и экклезиоцентричность, смиренномудренное послушание и умеренность во всем, пост, усердная молитва, разумно-деятельная любовь (братолюбие, нищелюбие), терпеливое перенесение трудов, умение отдавать себя всего на служение общему делу, самопознание и совершенствование.
Педагогические принципы в “Домострое”,
традициях и укладе крестьянской жизни
Большой интерес представляет традиционная система воспитания детей у русского народа, являющая собой неиссякаемую сокровищницу педагогического опыта. Основу населения России составляли крестьяне, сохранявшие ядро традиционной культуры. Педагогика русского крестьянства имеет в себе и ветхозаветные, и новозаветные мотивы. Древнерусская педагогическая практика в значительной степени находилась под влиянием Ветхого Завета. Это проявлялось, в частности, в большой строгости воспитания, общепринятых телесных наказаниях. «Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова» является одним из основных источников «Домостроя» — древнерусского памятника XVI в.[14]. Однако, проходя через христианство, ветхозаветные мотивы, преображались. Так, вторым источником «Домостроя» послужило «Слово Иоанна Златоуста о добрых женах» из популярного на Руси сборника «Измарагд», в котором отражен византийский опыт жизнеустроения.
Достаточно сильно было и влияние языческой старины. Тем не менее, христианская вера крестьян была очень сильной; их религиозность отличалась цельностью и была связана с самим образом жизни. Там, где народная педагогика сознательно литургична, можно говорить о ее укорененности в истинной христианской традиции.
Основные принципы народного православного уклада жизни и воспитания, раскрывающиеся в “Домострое”, это — христоцентричность, экклезиоцентричность, богобоязненность. Эти принципы успешно претворялись в жизнь благодаря незыблемому патриархальному укладу — из рода в род передаваемых Богом установленных правил жизни — соответственно которым русский крестьянин старался “укладывать” свою жизнь, строить свое хозяйство (по старинному русскому выражению — домострой). Нарушение законов жизни понималось как грех, за которым последует Божие наказание и разрушение жизни. Уклад служил гарантией воспитания хороших земледельцев, рачительных хозяев, богобоязненных людей.
Святая святых рода, его основа — семья. Семейные отношения основаны на строгой иерархии и почитании старших. Обязанности в семье четко распределены[15]. Дохристианское влияние проявилось в принципе власти, на котором построены внутрисемейные отношения. В этом смысле «Домострой» не дотягивает до высшей свободы христианских отношений, основанных на доверии и уважении к каждому. Однако реальная жизнь русских людей в данном случае не укладывалась в «Домострой». Христианские традиции духовного равенства людей глубоко вошли в ее культуру. Условия жизни и быта крестьянам диктовал в большей степени суровый климат, тяжелый труд и Православная Церковь[16]. В целом, внутрисемейные отношения были хорошей школой смиренномудренного послушания: дети подчиняются родителям, жена — мужу, вся семья — духовному отцу, властям, царю, Богу; природа — человеку. Весь мир как бы основан на семейных отношениях. Так, отцом русские называли Бога, царя, священника, любого старшего; матерью — Божию Матерь, землю (мать-сыра-земля), Родину, старшую женщину.
Ребенок воспитывался не столько уроками, сколько личным примером родителей, восприемников, членов семьи, всей окружающей средой. Весь мир Божий в этой школе сводился под домашний кров, и дом становился малым образом Вселенной. Древнерусская семья представляла собой малую церковь, где домовладыка был священником; домашнее царство, где он царил; школу, в которой он учил жену, чад и домочадцев. Будучи ответственным пред Богом за них, хозяин дома обязывался быть требовательным к себе и подопечным; как педагогический помощник священника он вел семью ко Христу, обучал Закону Божию и благонравию, заботиться о ее телесной и душевной чистоте, непрестанно являя личный пример[17]. Это означало прежде всего, что глава семьи сам должен был быть глубоко церковным человеком, послушным своему педагогу — духовному отцу и через него — Матери-Церкви и истинному педагогу — Христу. На этой основе он мог преподавать своему дому начатки того строения душевного, которое сам усваивал у своих руководителей.
Дети безоговорочно подчинялись родителям во всем; огромное значение имели родительские благословение, проклятие, молитва[18]. Непослушных детей наказывали; часто — физически[19]. Обязательное условие наказания — его справедливость. В народной педагогике складывались свои приемы воспитания: поощрения, похвалы, рассказы о старших, опытных работниках, о благочестивых и святых людях, о былинных героях.
В целом отношения между родителями и детьми, при внешней строгости, отличались внутренней теплотой и взаимной привязанностью.
Когда дети подрастали, родители обучали их “промыслу и рукоделию”, отец — сыновей, мать — дочерей. Труд — освященная Богом обязанность, основа жизни крестьянина, по сути — его способ существования.
У русских существовала целая школа милосердия и благочестия, основанная на понимании Богоугодности добрых дел, творимых Христа ради. Обычной была помощь односельчанам попавшим в трудное положение: больным, вдовам и сиротам, погорельцам. В помощи другим участвовали и дети. Традиционным было гостеприимство к чужим людям, в т.ч. нищим. Обычаи предписывали угощать и одаривать нищих на великие праздники, Святки; во
время Петрова поста; на поминки и дни памяти.[20]
Угождение Богу, “по Бозе жити” — единственная цель земной жизни, которая достигается верой в Бога, исполнением обрядов Церкви и выполнением Евангельской заповеди любви к ближним.
Народное воспитание сугубо экклезиоцентрично. Значение Церкви в жизни крестьянина и в воспитании детей трудно переоценить. Приходская школа для мирян была школой душевного спасения, а священник был духовным отцом своих прихожан, учителем и наставником[21]. Преподаваемое им учение разносилось по домам старшими его духовными детьми, отцами семейства. Все события в жизни крестьянина освящались Церковью через обряды и Таинства. На все испрашивали благословение Церкви: на посев и жатву, брак, рождение и смерть. Освящались новые вещи, дом, скотина, урожай, пища; земля, вода, воздух — то есть весь окружающий мир.
С рождения ребенок слышал молитву, видел молящихся родителей, лампадку, образа; с раннего возраста приучали к молитве, постам, богослужению; читали Священное Писание и Жития святых. Время от времени семьи отправлялись на богомолье в ближайшие, а то и очень отдаленные монастыри.
Дети с малых лет приучались понимать, что не все, что хочется, дозволено. Воспитывалось понятие о превосходстве духовного начала в человеке над телесным.
Все образование сводилось преимущественно к религиозному, все обучение воспитывало. Интересно, что общий порядок обучения на Руси существенно не изменялся на протяжении многих веков. Уже в Московской Руси (ранее XVП века) преподавателями были в основном священно- и церковнослужители; обучение начиналось с Азбуки, содержание которой состояло из молитв, Символа Веры, заповедей и нравственных наставлений; продолжалось изучением Часослова и завершалось на первом этапе глубоким изучением Псалтири — любимой книги наших предков. После Псалтири изучали Апостол, затем Евангелие, потом другие книги Священного Писания. Таким образом, изучение Библии составляло высшее образование на Руси.
Младенцев (до 7 лет) старались причащать как можно чаще. На первую исповедь ребенка приводили, когда ему исполнялось 7 лет. К этому времени ребенок уже представлял себе, что означает слово “грех”, был наставлен в богобоязненности. Исповедь воспринималась как духовная баня, очищающую совесть. Совесть очищалась также искренней просьбой прощения. Прощения просили во всех серьезных жизненных обстоятельствах: при расставании — временном и вечном, перед родами; в Прощеное воскресенье… Подобные обычаи формировали в человеке глубокую ответственность за свои поступки и приучали к ней с раннего детства.
Дети участвовали во многих церковных праздниках. Праздники в детском сознании сливались с определенными временами года: 40 мучеников с выпеченными жаворонками — с закликанием весны, Троица — с летом, цветением природы, летними играми, походами в лес, на речку. Таким образом, мир ребенка органично вливался в окружающий его большой мир (сотварность). Этот мир обладал цельностью, устойчивостью, основательностью, крепкими связями. Ребенок воспитывался в среде обычая и обряда, все здесь было обдумано и испытано, выдержано, размерено и разграничено, каждый шаг разучен, каждый поступок предусмотрен и подсказан Священным Писанием или Отеческим Преданием, расписан по церковному календарю[22].
Древнерусская жизнь в целом и воспитание в частности отличалось истинным целомудрием. Это выражалось, во-первых, в формировании духовно и телесно целомудренного человека, т.е. цельного, имеющего крепкий внутренний стержень. Прямизне, гармонии внешнего и внутреннего облика придавалось особое значение. Требовалась чинность, то есть благопристойность и упорядоченность поведения во всем. Во-вторых, целомудренными были отношения между полами, при отсутствии в то же время ханжества и лицемерия. Деторождения, как милости Божией, никто не стыдился. Свадебный обряд открыто направлен на привлечение силы плодородия к новой семье. Но вести сексуальные разговоры считалось грешно, стыдно. Добрачные и внебрачные связи строго осуждались.
Рассматривая народное благочестие в отдельных его проявлениях, следует помнить, что в действительности религиозность крестьян была очень цельной, соединенной с их образом жизни. Крестьяне жили в постоянном осознании Богоприсутствия, что выражалось в выражениях типа: “Без Бога не до порога”, “Ходить под Богом”, “С Богом!”, “Бог с тобою!”, “Храни тебя Господь”, “Спаси Бог” (спасибо), многократное “Господи помилуй”, “Бог тебе судья” — всего невозможно перечислить. Эти выражения буквально пронизывали речь, сознание русского крестьянина. Вера определяла всю жизнь. Искренне верующий человек не мог плохо хозяйствовать на сотворенной Богом земле, или отказать в помощи ближнему. В повседневных молитвенных обращениях воедино сливались отношение к иконе Святого, знание его жития, заказ молебна в сельском храме и стремление отправиться в дальнюю обитель к чудотворному образу.
“Весь этот многомиллионный верующий народ во все времена своей исторической жизни заботился о религии, о жизни “по-Божески”, о устроении церквей и о спасении души гораздо больше, чем о политико-экономическом или общинном благоустройстве. Дух этого православного народа — христианско—человеческий; вечный идеал его — святость: в нем заключается источник света, правды и общественной нравственности для всех других народов. Любить ближнего и делать для него добро, по убеждению народа, можно только для Бога, для спасения души»[23].
Основные принципы педагогики в
послепетровский период
В XVII веке на фоне усиления контактов с Западом, проникновения европейской образованности наметилось зарождение новых подходов к осмыслению природы человека, целей и способов его воспитания и образования. Традиционно понимавшийся как Божественное творение, теперь он начинает все более рассматриваться как общественное и природное существо. Пристальное внимание уделяется его разумной познавательной деятельности. Усиливается секуляризация культуры. Намечается поиск смысла человеческого бытия во “внешней”, т.е. нерелигиозной сфере.
Петр I стремился переориентировать Россию на западный образ жизни и присущие ему культурные ценности, что влекло за собой, в частности, трансформацию педагогической традиции, уходящей своими корнями в средневековую Русь[24]. Однако превратить Россию в западную цивилизацию так и не удалось, она продолжала сохранять самобытность. Православие осталось доминантой духовной жизни, особенно в народном сознании. Элементы западной культуры и образованности, проникая прежде всего в город, стали, главным образом, достоянием представителей привилегированных и имущих сословий. На жизнь же большей части народа по-прежнему сильно влияли заветы «старины глубокой».
Начавшиеся в начале XVIII столетия преобразования остро поставили вопрос о кадрах, способных претворять эти преобразования в жизнь. Петр I создает сеть учебных заведений по западному образцу, сосредоточивая главное внимание на проблеме обучения наукам и ремеслам. Российская мысль интенсивно осваивает достижения западной педагогики. К началу царствования Екатерины II становится очевидной недостаточность сосредоточения внимания на чисто учебной проблематике. Это противоречило и русской православной педагогической тенденции. Разрабатываются проекты создания закрытых воспитательно-образовательных учреждений, главной задачей которых является, по выражению Бецкого, «выращивание новой породы людей» — добродетельных граждан[25]. Как отмечал прот. В.В.Зеньковский, в XVIII веке в культуре и педагогике «у русских все чаще начинает выдвигаться основное значение морали и даже проповедуется первенство нравственности над разумом»[26].
В первой половине XIX века в русском обществе сформировалось течение, отстаивающее идею самобытного пути развития России и критически относящееся к достижениям Запада. Эта тенденция коснулась и педагогики. Одним из главных ее выразителей был И.В.Киреевский (1806-1856 гг.), религиозный философ и один из основоположников славянофильства. В отходе от религиозных начал и утрате духовной цельности Киреевский видел источник кризиса европейского просвещения. Критикуя Западную цивилизацию с православных позиций, он доказывал, что «три элемента Запада: Римская Церковь, древнеримская образованность и возникающая из насилий завоеваний государственность, были совершенно чужды России». Говоря о различиях западной и русской педагогических традиций, он утверждал, что «раздвоенность и цельность, рассудочность и разумность будут последним выражением западноевропейской и древнерусской образованности»[27]. Киреевский верно подметил односторонний рационализм западной педагогики и культуры в целом. Задачей самобытной русской философии он считал переработку «европейской образованности» в духе святоотеческого учения. Киреевский отстаивал необходимость целостного взгляда на человека (целомудренность), взятого в иерархическом единстве всех его духовных сил — разума, чувства, эстетического смысла, любви, совести, стремления к истине, синтезирующихся в вере. Он стремился утвердить приоритет нравственного воспитания, основанного на развитии религиозного чувства.
Стремление возродить российскую самобытность, возникшее в 30-50-е годы XIX в., было связано с осознанием того глубочайшего кризиса, в который вступило к этому времени русское общество, а также с нежеланием слепо следовать западному пути, по которому его пыталось вести правительство, начиная с Петра I, так как к этому времени в полной мере проявились антагонизм и недостатки европейской цивилизации, вступившей на стезю капитализма[28].
Русская почвенническая мысль была убеждена, что та система образования, которая утвердилась в России к этому времени, являлась проводником западной культуры, чуждой национальным основам и подрывающей их. Целый ряд выдающихся педагогов этого периода разрабатывали направление развития отечественной православной педагогики.
Самобытную русскую педагогику, уходящую своими корнями в допетровскую эпоху, разрабатывали впоследствии, уже в ХХ веке русские религиозные философы. В их ряду особое место принадлежит В.В.Зеньковскому, речь о котором пойдет ниже.
К сожалению, приходится признать, что не самобытная православная педагогика, связанная с русской религиозной философией, с традициями славянофилов и с традициями средневековой Руси, более всего определяла лицо массовой российской школьной традиции. И в XVIII, и в XIX и в начале XХ века русская педагогика и школа развивались главным образом в русле западных педагогических подходов[29].
Таким образом, говоря о педагогической традиции России следует иметь в виду следующее. Во-первых, ее становление и развитие определялось влиянием прежде и более всего православной византийской, а в последние века — западной педагогической культуры. Во-вторых, к началу ХХ века в российской педагогике обозначилось более последовательное стремление, чем на Западе, к целостному подходу к человеку, а также большее внимание к развитию его нравственной сферы. Но не смотря на различные влияния и заимствования, русская педагогика всегда творчески осмысляла чужой опыт, рассматривая его в свете Православия, и всегда оставалась самобытной и не похожей на других.
Педагогические принципы из наследия
выдающихся русских педагогов XIX-XX веков
Остановимся более подробно на самобытной русской педагогике XIX-XX веков. Наибольший интерес для нас представляют педагогические взгляды
святителя Феофана Затворника (1815-1894), святого праведного Иоанна Кронштадтского (1829-1908), Н.И.Пирогова (1810-1881), К.Д.Ушинского (1824-1870), С.А.Рачинского (1833-1902), Н.Н.Неплюева (1851-1908) и протопресвитера В.В. Зеньковского (1881-1962). В своих трудах все эти замечательные отечественные педагоги единодушно определяют главные начала педагогического процесса.
Прежде всего воспитание и образование должно иметь христианскую основу. Для улучшения педагогического дела свт. Феофан Затворник предлагал перестроить все воспитание — домашнее и школьное — на истинных христианских началах[30]. «Всякая, преподаваемая христианину, наука должна быть пропитана началами христианскими, и притом православными»[31]. «Воспитание прежде всего должно быть христианским», — писал К.Д.Ушинский[32]. “Для нас нехристианская педагогика — вещь немыслимая, предприятие без побуждений позади и без результатов впереди. Все, чем человек как человек может и должен быть, выражено вполне в Божественном учении, и воспитанию остается только прежде всего и в основу всего положить вечные истины христианства. Оно служит источником всякого света и всякой истины и указывает высшую цель всякому воспитанию”[33]. Об этом же говорил и Н.И.Пирогов: «мы — христиане, и, следовательно, основой нашего воспитания должно служить Откровение»[34].
“Только христианство может вести человека по великой и опасной дороге (совершенствования), указывая на живой идеал совершенства — Христа”[35]. Господь наш Иисус Христос — центр всей жизни и всего педагогического процесса (христоцентричность). «В Боге все мы должны сходиться, как радиусы в центре, — говорил св. прав. Иоанн Кронштадтский, — от Бога получать единство в направлениях и взглядах»[36]. Господь — «Альфа и Омега, начало и конец» всего[37], единственный истинный Учитель всех[38], без Которого не созидается дом истинных знаний, как и дом добродетелей, и без Которого что ни делается, строится на песке»[39]. Любое учение должно начинаться «Богом и с Богом», «с мыслью об Нем, с сердечным обращением к Нему, с искренним прошением Его помощи», «потому что Он есть начало и конец всего»; тогда учение будет богоугодно, принесет плод «непостыдный, благоуспешный, радующий»[40].
Воспитание должно быть не просто христианским, но и церковным, не только христоцентричным, но и экклезиоцентричным. Два величайших православных подвижника — святитель Феофан Затворник и святой праведный Иоанн Кронштадтский — считали, что Церковь Божия есть лучшая и вернейшая воспитательница человека для Царства Божия. «Наилучшее педагогическое воспитание доставляет именно Церковь своим чудным, небесным, проникающим до костей и мозгов богослужением»[41]. «Самое действенное средство к воспитанию истинного вкуса в сердце есть церковность. Церковь, духовное пение, иконы — первые изящнейшие предметы по содержанию и по силе»[42]. Огромное воспитательное значение имеют Таинства Церкви: «есть стихии, питающие жизнь духовную. Это — Таинства»[43]; «Церковь, церковность и святые Тайны — как скиния для детей… Даже одним этим могут быть заменены… все средства воспитания»[44]. «Церковь храмом и богослужением действует на всего человека, воспитывает его всецело: действует на его зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, на воображение, на чувства, на ум и волю благолепием икон и всего храма, звоном, пением певцов, кадильным фимиамом, лобзанием Евангелия, креста и святых икон, просфорами, пением и сладкозвучным чтением Писаний»[45].
Итак, христоцентричность и экклезиоцентричность являются двумя важнейшими принципами воспитания. Отсюда следует, что иерархически наиболее значимым видом воспитания будет религиозно—нравственное воспитание, подводящее ребенка к двум основным центрам — Христу и Церкви, и через это более всего способствующее образованию души. «Пусть обучение будет так расположено, чтобы видно было, что главное и что подчиненное… Пусть считается главным — изучение веры, пусть лучшее время назначается на дела благочестия… надобно так расположить дух учеников, чтобы у них не погасло убеждение, что главное у нас дело есть богоугождение, а научность есть придаточное качество… годное только на время настоящей жизни»[46].
Неслучайно во всех учебных заведениях того времени первым по значимости предметом считался Закон Божий. По словам св. прав. Иоанна Кронштадтского, Закон Божий «всегда поставляется на первом плане… как ограда, как основание для учащихся, и для всех наук». «Как любить Бога всякому должно всем сердцем… так и Закон Божий также надо любить всем сердцем… любить Бога и усердно заниматься Законом Божиим — одно и то же…»[47]. При этом Закон Божий — не просто первый среди прочих школьных «предметов», но — важнейший, жизненно важный. Но чтобы он стал таковым для учеников, педагогу самому нужно жить теми истинами, о которых он говорит. Замечательный пример дает нам св. прав. Иоанн Кронштадтский, в течение 32-х лет преподававший Закон Божий в учебных заведениях Кронштадта. Он умел учить «евангельскому закону, а не текстам, хотя и больше всего ценил подлинный евангельский текст». «У него на уроках изучалась история Царства Божия на земле, а не история Царей Израильских», «он больше всего заботился о том, чтобы правда Евангельская была усвоена сердцем учеников»[48].
Нельзя быть истинно православным христианином, не будучи воцерковленным человеком. Поэтому важно, чтобы изучение Закона Божия в классе оживлялось практическим участием детей в богослужении. Так, ученики С.А.Рачинского помогали во время богослужения в качестве чтецов и певцов. В связи с этим особое значение в обучении получили церковнославянское чтение и церковное пение, открывающие доступ к познанию богослужебного круга и вместе со Священным Писанием и Житиями святых дающие постоянную пищу уму, воображению и нравственной жажде человека: «Кто овладел хотя бы только службами Страстной седмицы, тот овладел целым миром высокой поэзии и глубокого богословского мышления», — отмечал Рачинский[49]. Большое значение придавал он церковному пению древнего стиля: «Тому, кто окунулся в этот мир строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого духа, тому доступны все выси музыкального искусства, тому понятны и Бах, и Палестрини, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые мистические дерзновения Бетховена и Глинки…»[50]. Так, школа славянского чтения и церковного пения становилась школой духовной культуры, где ребенок получал истинное образование.
Постоянно отстаивая права Закона Божия и религиозного воспитания, отечественные педагоги не отрицали важности и других знаний, однако указывали на их вспомогательное значение. Так св. прав. Иоанн Кронштадтский многократно говорил, что, по слову Господа нужно прежде всем христианам искать Царствия Божия и правды Его, научаться христианским добродетелям; а мирские науки должны быть лишь приложением к этому главному предмету звания, — религиозному воспитанию, тогда они будут полезны и благоплодны. «Нам нужно образовать не только ученых людей и полезных членов общества, но и — что всего важнее и нужнее — добрых, богобоязненных христиан…» [51]. «Знания без веры в Бога… и без любви к Богу и человечеству — это солома; а знания научные, проникнутые оживотворяющей, одушевленною верою и любовию к Богу и к ближнему — это пшеница, славная, вкусная, питательная пшеница»[52].
Воспитание должно быть не только христоцентрично и экклезиоцентрично, оно должно соответствовать идеалу своего народа. Принцип патриотичности наиболее последовательно развивает К.Д.Ушинский. “Дух школы, ее направление, ее цель должны быть обдуманы и созданы нами самими, сообразно истории нашего народа, степени его развития, его характеру, его религии”. В родной культуре Ушинский нашел основу содержания образования. В народном творчестве он видел педагогический гений народа, который уже создал это великое содержание, соответствующее детской природе, и нам остается только использовать это великое достояние. Православие и родной язык есть те последние вещи, потеряв которые народ перестает быть народом и погибает. «Отнимите у народа все — и он все может воротить, но отнимите язык, и он никогда уже более не создаст его…, вымер язык в устах народа — вымер и народ»[53]. Древние формы обрядов, богослужений, сохраненные в Православной Церкви, открывают возможность формирования внутреннего человека. Ни одно дитя не должно быть лишено святого, отрадного влияния Церкви.
В целом, все обучение и образование должны быть не отделимыми от воспитания. Об этом убедительно говорил Н.И.Пирогов: каждый учитель любой ступени школы только тогда отвечает своему назначению, когда одновременно с преподаванием он воспитывает учащихся. Каждый учитель, говорил он, должен прежде всего усвоить, «что наука нужна не для одного только приобретения сведений, что в ней кроется, — иногда глубоко, и потому для поверхностного наблюдателя незаметно, другой важный элемент — воспитательный. Кто не сумеет им воспользоваться, тот еще не знает всех свойств науки и выпускает из своих рук такой рычаг, которым можно легко поднять большие тяжести»[54]. Воспитание должно преобладать в педагогическом процессе, так как простота или целостность человека обусловлена не жизнью ума, а сердца. “При обучении надо и вложить в их сердца единое на потребу — истины веры, любовь к Богу и ближнему”[55]; нужно чтобы “все познания, верования и чаяния дружно улеглись в их умах и сердцах и не вытеснили одни других”[56]. “Среди всех наук, наиболее дети должны преуспевать в “науке любви, веры, молитвы, кротости, смирения… терпения, послушания, чистоты и целомудрия, милосердия и сострадательности к людям… сдержанности, самоотвержения…”[57]. Все душевные усилия учеников должны направляться к одной цели — христианскому совершенствованию[58].
Воспитание сводится преимущественно к воспитанию сердца; раскрытию его сокровенной глубины для принятия в себя Христа и Его слова. Вслед за Апостолом, святой праведный Иоанн Кронштадтский призывает детей возлюбить «словесное, не прельщающее, но приносящее здравие и крепость душе молоко… — Божие слово, Евангелие, Божий Закон, основание всякого благополучия человеческого временного и вечного». «Всего больше позаботьтесь… о стяжании, или поддержании детской чистоты сердца: ибо чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5,8)[59]. Христианское воспитание сердца есть, в конце концов, научение любви. «Больше всего учитесь языку любви, самому живому, выразительному языку. Без него знание языков не принесет никакой существенной пользы… Старайтесь успевать наиболее» не во внешних науках, а «во внутренней, сердечной науке — в науке любви, молитвы, кротости, смирения… терпения, послушания, чистоты и целомудрия, милосердия и сострадательности к людям… бескорыстия и самоотвержения, в науке очищения сердца от всяких нечистых, лукавых и злых мыслей…»[60] — говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Разнообразными были педагогические приемы русских педагогов, но основной тон их был един — любовь. «Полюбите детей и они вас полюбят», — говорил свт. Феофан[61]. «Растворяй строгость власти кротостью, старайся любовью заслужить любовь… истинная доброта не чуждается, где должно, строгого слова, но оно в устах ее никогда не имеет горечи обличения и укора»[62]. Взрослые должны относиться к ребенку с любовью и благоговением — как к святому храму Божию, — говорил Н.И.Пирогов[63]. Образцом истинно христианской любви является св. прав. Иоанн Кронштадтский, называвший детей Божиими бесценными растениями и цветами[64]. Он умел любить детей и создавать для них благоприятную их духовному росту среду, и его любовь порождала ответную любовь и почитание детей и родителей. Ученики любили ходить в тот храм, где служил их Батюшка, его любовь воцерковляла их[65]. И это свидетельствует о том, что школа с хорошим законоучителем становится притвором храма и дорогой к Богу и Церкви[66].
- Бог есть Любовь, и, желая быть «единодушным с Творцом»[67], Н.Н.Неплюев положил принцип любви в основу всего педагогического дела. Молитвой о любви, составленной самим Николаем Николаевичем, начинался и заканчивался каждый день в его Крестовоздвиженском братстве[68], и на возрастание в любви был направлен весь воспитательный процесс — на «возрастание от любви в любовь до торжества смиренной любви к Богу и ближним, до сознательной дисциплины любви, до жажды послужить делу Божию, торжества любви и стройной организации жизни и труда на началах братолюбия”[69].
«Пока жизнь и отношения не основываются на любви, пока нет добровольной дисциплины любви невозможна и свобода», — писал Неплюев[70]. Истинная любовь воспитателя к воспитанникам порождает в последних ответную любовь. Любовь же служит к воспитанию смиренномудренного послушания, ибо любящий же ребенок будет бояться огорчить любимого родителя или педагога непослушанием. «Что мороз для цветов, то и отступление от родительской воли для дитяти», — писал святитель Феофан[71]. Это подтверждает опыт св. прав. Иоанна Кронштадтского. По воспоминаниям современников, он не наказывал учеников, «не ставил двоек, на экзаменах не резал»[72]. Однако, в этом и не было нужды, ибо «не знавших урока не было», «во время уроков… были всегда тишина и внимание», ученики были «полны послушания, восторженной детской любви и боязни чем-либо огорчить дорогого батюшку»[73].
- В случае непослушания, необходимо добиваться от детей раскаяния, которое подготовляет их в последующему Таинству Исповеди: «как хорошо предварительно расположить дитя к раскаянию… здесь положится основание будущему постоянному истинно-религиозному характеру — тотчас восставать по падении, образуется умение скорого покаяния и очищения себя или обновления слезами»[74]. По мнению Н.И.Пирогова, послушания можно и должно добиваться прежде всего с помощью нравственных связей и взаимного доверия учащих и учащихся, а не с помощью телесных наказаний[75].
Многие отечественные педагоги указывали на необходимость личностно—уважительного подхода к детям. «Воспитание должно быть приноровлено к различным способностям и темпераменту каждого»[76], — писал Н.И.Пирогов. А для этого воспитатели должны посвятить себя изучению духовной стороны детей[77]. На необходимость личностного характера воспитания указывал и прот. Василий Зеньковский: ничего нельзя привить ребенку помимо его личности, его свободы, поэтому дело педагога приобретает характер межличностного общения[78].
Прекрасно умел осуществлять этот принцип на практике св. прав. Иоанн Кронштадтский: он чувствовал настрой всякой детской души, видел малые и большие печали своих воспитанников и мог утешить каждого. В тоже время он умел быть суровым, если кто-то из учеников восставал против Истины, но по слову Господа гневался, не согрешая, в самом гневе проявляя бережность к детской душе. Любя детей, св.прав.Иоанн не закрывал глаза на греховную поврежденность их природы и призывал родителей и воспитателей искоренять из детских сердец греховные плевелы. “Семена всех грехов есть и в детях, — говорил он. — Остерегайте детей своих со всею заботливостью от капризов пред вами”, ибо “каприз — зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу”[79].
- Любить детей — не значит потакать их прихотям. Дети должны приучаться делать не только то, что им хочется. Нет никаких оснований представлять им полную свободу[80]. Так, К.Д.Ушинский не исключает принудительности занятий — школьных и домашних, что не противоречит, по его мнению, пониманию свободной деятельности. Основа истинной нравственной свободы состоит в умении ограничить, заставить себя. С первых уроков необходимо приучить ребенка «полюбить свои обязанности и находить удовлетворение в их исполнении»[81].
Умение ограничивать себя способствует воспитанию умеренности — этой, по мнению святителя Феофана, основы правильного физического воспитания. В питании детей следует приучать к умеренности и воздержанию; в движениях — к трудам; в отношении чувствительности — безболезненно переносить перемены температуры, ушибы, боли и пр. Естественное назначение тела — служить орудием духа, а потому с ранних лет его нужно воспитывать так, чтобы оно содействовало и помогало развитию духовной деятельности. «Кто приобрел такой навык, тот счастливейший человек в мире. Душа в нем является владычицей тела… Должно держать (развитие тела) под строгой дисциплиной с самого начала», ибо тело — это «седалище страстей… и орган, через который демоны проникают в душу»[82].
Научившемуся властвовать собой легче сохранять целомудрие, на исключительную важность поддержания которого указывает свт. Феофан: «высокие преимущества принадлежат тому, кто сохранил благодать крещения и с первых лет посвятил себя Богу. Первое преимущество, как бы основание всех других преимуществ, есть целость естественно благодатного состава. Человек назначен быть вместилищем необыкновенно высоких сил, готовых излиться на него из источника всех благ, только пусть не расстраивает себя. И кающийся может быть исцелен совершенно; но ему, кажется, не дается то знать и чувствовать, что непадавшему…»[83]. «Должно помнить, что, кроме телесной, есть душевная чистота, которой может и не быть в сохранившем по гроб телесную. Она значительнее телесной…»[84]. О необходимости цельности и простоты говорил и св. прав. Иоанн Кронштадтский: «Бог прост, и душа проста»[85]. «Душа человеческая по природе своей проста, все хитросплетенное отталкивает от себя». Поэтому и преподавание должно быть простым и целостным: «Позаботимся о возможной простоте преподавания… Область знаний безгранична… достаточно выбрать самое необходимое и привести это в стройную систему»[86]. “Не в том сила, чтобы преподать много, а в том, чтобы преподать немногое, но существенно нужное для ученика”[87].
Для того, чтобы научить детей существенно нужному для них, педагоги должны поддерживать и помогать друг другу. Следует соблюдать чувство меры; уважать труд своих сослуживцев и учитывать те знания, которые дети приобретают на уроках наших коллег. В противном случае, мы будем разрушать труды друг друга[88]. «Много значит единство действования во всех делах, и отправление от одного начала, равно как и возвращение к единому началу; напротив, разногласие или несогласие в деле всего более вредит делу. Если один преподаватель говорит то, а другой утверждает противное об одном и том же предмете, тогда в головах учащихся происходит умственный хаос… в сердцах разрушается вера во все святое… и труд самого блестящего образования нередко разбивается в дребезги»[89]. «Все мы работаем одному Христу… Будем же все трудиться усердно и согласно, друг друга поощряя, друг друга поддерживая»[90].
Достигнуть такого согласия нелегко, но и само педагогическое дело исключительно трудно и ответственно. «Педагогика — первое и высшее из искусств, — писал К.Д.Ушинский, — потому что она стремится к выражению совершенства не на полотне, не в мраморе, а в самой природе человека»[91]. Но христианское воспитание — искусство не только многотрудное, но и святое. По словам свт. Феофана Затворника, «воспитание есть из всех святых дел самое святое»[92], а потому «воспитатель должен пройти все ступени христианского совершенства»[93].
Все русские педагоги придавали большое значение воспитанию самих воспитателей. «Подготовка учителей должна быть краеугольным камнем, если мы хотим жить в будущем»[94], — говорил Н.И.Пирогов, и сам, воспитывая своих студентов, старался пробудить в них требовательность, ответственность и совершенствование[95]. Вся земная жизнь готовит нас к жизни вечной, поэтому необходимо совершенствование и требовательность к себе. «Пусть каждый из нас решит столбовой вопрос жизни: жить, совершенствуясь, возвышая дух до управления материей, и материю облагораживая до свойства быть управляемой духом. Только тот, кто в здешней жизни проложил себе путь, достигает бессмертия… Кто был так несчастлив, неспособен, ленив и ничтожен, что не хотел воспользоваться самой высшей способностью человека — развивать сознание себя до самопознания и одерживать чрез то верх над материей, тот должен отказаться от бессмертия, которого он не в состоянии был и предчувствовать. Много званых, мало избранных»[96].
В своем проекте учительской семинарии Ушинский ставил необходимым условием ее существования строгий православный характер воспитания будущих учителей[97]. Он считал, что учитель должен овладеть всеми методами правильного истолкования Священного Писания, но прежде всего он должен полюбить Слово Божие, подробно ознакомиться со значением священнодействия, таинств, обрядов, также с церковнославянским языком. Православный педагог должен быть требовательным к себе, и постоянно совершенствоваться, дабы являть достойный личный пример.
О необходимости требовательности педагога к себе писал и св. прав. Иоанн Кронштадтский. Дело воспитателя многотрудно, «сколько мы приложим усердия, умения и трудов к возделыванию вверяемого нам духовного виноградника, на столько он принесет и плодов». Учителю важно понимать свою ответственность за воспитание детей «пред Богом, пред обществом и пред Ангелами этих детей, всегда видящих лице Отца Небесного (Мф. 18, 10)»; не надеяться на свои силы и «чаще испрашивать на свое дело благословение и помощь свыше от Бога»[98]. «Но Бог Помощник наш. Наше дело усердно напаять: возращать будет Бог (1 Кор. 3, 6), Споспешник и Возраститель всего доброго»[99]. Для успешности истинно-христианского воспитания необходимо, чтобы воспитатель был на высоте положения. «Духа не угашайте, — пишет о. Иоанн, цитируя Апостола Павла (1 Кор. 5, 19). — Помни это всякий христианин, особенно священник и наставник детей. Особенно нам нужно всегда гореть духом при нашем высоком служении Богу и человеку». О том, какова должна быть личность педагога, он учил более не столько словом, сколько личным примером.
- Отечественные педагоги не только говорили о важности личного примера в деле воспитания, но и сами являли его своим ученикам. Так, воспитанники Н.И.Пирогова имели в его лице замечательный пример человека, ученого и педагога, вызывавшего глубочайшее уважение современников. Один из них, К.Д.Ушинский (речь о котором пойдет ниже) так отзывался о Пирогове в своей статье «Педагогические сочинения Н.И.Пирогова» (1862 г.): «есть и всегда, к счастью человечества, будут такие личности, которые будут внушать глубокое уважение, несмотря на то, соглашаемся или не соглашаемся мы с их мнениями»[100]. Удивительный пример самоотвержения видели последователи в С.А.Рачинском, который, будучи профессором Московского университета, отказался от всех преимуществ, удобств и выгод своего положения, стал сельским учителем и отдал все силы бескорыстному служению на пользу народа.
Замечательный пример истинно христианской жизни являл св. прав. Иоанн Кронштадтский. Любовь его к людям питалась и освящалась его любовью ко Христу. Сам живя во Христе, он полагал христоцентричность основным принципом своей педагогике, и вел детей ко Христу личным примером богоуподобления. Неслучайно в адресе, поднесенном о. Иоанну в день 25-летия законоучительства его в Кронштадской гимназии среди многих слов благодарности было сказано: «Ты сам, не замечая того, своею пламенной любовью к Богу и бесконечным милосердием к людям, зажигал своим живым словом в учениках светоч истинного богопознания, а своим святым примером и милосердием наполнял их юные сердца страхом Божиим, верою, упованием на Бога и любовью к Нему и к своим братьям…»[101]. Своим духовным горением св. прав. Иоанн Кронштадтский умел зажигать духовный огонь в своих учениках как во время уроков, так и во время богослужения. Вместе с тем он считал необходимым и тщательную подготовку преподавателя к урокам: «учишь ли детей… обращай дело в служение Богу, уча их с усердием, занимаясь предварительно обдумыванием средств к обучению ясному, вразумительному, полному (по возможности) и плодотворному»[102]. Сила морального влияния о. Иоанна была настолько высока, что педагогический совет гимназии, где он преподавал, обычно отдавал ему «на поруки» учеников, предназначенных к отчислению. Добрый пастырь умел вылечить эти «больные растеньица» и исправившимися возвращал их в школу.
- Личный пример воспитателей является могучим воспитательным и исправительным средством. От личностей зависит весь успех дела. «Ищите убедиться в самом главном, — призывает Пирогов, — личности людей, которым вы доверили образование вашего сына. Посредством ли языков и естествоведения совершится общечеловеческое образование вашего сына — все равно, лишь бы сделало его человеком»[103].
Человек является главным предметом педагогического процесса. Вот почему одним из важнейших принципов педагогики становится принцип антропоцентричности. Антропологический принцип очень четко проводится в книге К.Д.Ушинского «Опыт педагогической антропологии». “Человек как предмет воспитания” представляет популярную философскую и антропологическую энциклопедию, в которой подведен итог всего замечательного в области западно-европейской мысли по этому вопросу. Сущность антропологического принципа состоит в том, что основной вопрос педагогики — о целях педагогического воздействия — решается на путях антропологического исследования, исходя из идеала совершенного человека: “Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, — пишет Ушинский, — то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях”[104]. Воспитание человека в соответствии с антропологией, имеет целью подготовку к деятельности, к труду в предстоящей самостоятельной жизни. Труд является не только средством удовлетворения материальных потребностей, но, в первую очередь, путем к нравственному совершенствованию. Только в христианстве мы находим направленную к неустанному “деланию” и творчеству жизнь. “Не в том ли, — спрашивает Ушинский, — заключается обещанный Спасителем покой, что душа, вся отдавшись своему делу, не замечает уже наслаждений, не возмущается страданиями, не ощущает никакой гордости. Вся она — одно могучее творческое слово: “да будет!” Задачу педагога Ушинский видит в том, чтобы помочь человеку найти, отыскать такую “душевную деятельность, которая была бы для него желанной, радостной, и подготовить его к такой деятельности, и дать средства к ней”[105].
Вслед за К.Д. Ушинским антропологический принцип построения педагогической системы применил прот. В. Зеньковский[106]. Его сущность состоит в том, что основной вопрос педагогики, о целях педагогического воздействия, решается им на путях антропологического исследования, исходя из идеала совершенного человека. Зеньковский более своего предшественника связал образ идеального человека с христианским Откровением о человеке как носителе образа Божия, не сходя при этом с почвы научной объективности.
Строя свою педагогическую антропологию, ученый исходит из основных антиномий человеческого бытия, решение которых и составляет основное назначение человеческой жизни. Таких антиномий Зеньковский выделяет три:
- Антиномия тварного духа. Только в богоообщении, в вечном личностном богопредстоянии человеческая личность находит себя. Осознание себя перед Богом, движение к Нему и составляет основу духовной жизни.
- Антиномия личностной свободы и социальной формы человеческого бытия. Здесь ученый вводит учение о динамической природе образа Божия в человеке, суть которого в том, что образ Божий — устремленность человеческого духа к Богу, способность входить в личностные отношения с Творцом.
- Соединение в человеческой природе духовного и материального начал, зависимость человеческой природы от космоса. Призванием человека является не только научиться возвышаться над низшими природными потребностями и руководствоваться духом, но напряженным усилием, через участие в благодати церковной жизни, взойти к свободе в духовной жизни. Подлинная свобода дана Богом, как способность изменения собственного сердца (в смысле средоточия духовной жизни).
Соединение в человеческой природе материального и духовного бытия, постепенность и одновременно многоступенчатость перехода в нем от одного уровня к другому находит глубокое осознание у ученого через принципы органичности и иерархичности. Органичность означает целостное соединение в человеческом существе разных уровней бытия: материально-чувственного, душевного и духовного. Все эти уровни пронизаны личностным началом, и связь их носит органический характер, то есть каждый из них неразрывно «включен» в общую жизнь целостного человеческого бытия. Принцип иерархичности описывает соотношение названных уровней между собой и говорит об их неравнозначности для целостного бытия человека. Духовное бытие является стержневым и определяет приоритет духовно-нравственных задач в педагогическом процессе.
Принципиально важными в воспитательной концепции Зеньковского является понятие о соотношении духовной и религиозной жизни, на основании которого он выводит основной принцип воспитательного воздействия. Успех его коренится в умении наставника явить пред взором ребенка соборный опыт Церкви таким образом, чтобы он мог воспринять его как относящийся к его собственной жизни. Решается эта задача путем личного сопереживания, общего сердечного опыта.
Огромный интерес для нашего исследования представляет целая система принципов православной педагогики, описанных прот. В.В. Зеньковским в его работе “Проблемы воспитания в свете христианской антропологии”.[107] Укажем принципы, предложенные о. Василием:
Необходимый для построения системы православной педагогики синтез идей религиозной и внецерковной педагогики, может быть осуществлен лишь на основе христианской антропологии.
Необходимо полностью освободиться от педагогического натурализма, ибо мы должны готовить детей и к земной, и к вечной жизни.
Духовное начало в человеке не только не выводимо из природной эволюции, но в самой своей сущности свидетельствует о своей связи с Абсолютом. Духовное начало в человеке есть корень и источник его неповторимой личности. Здесь мы выходим на выведенный и в нашей работе принцип личностно—уважительного подхода, поэтому остановимся на нем более подробно.
Образ Божий в человеке, не будучи его “природой”, входит в него, давая ему уникальное в тварном мире начало личности. Начало личности есть центр человеческой природы, в котором в силу этого все личностно и все восходит к духовному сосредоточию в человеке. Свобода в человеке глубже, чем простая возможность саморегуляции жизни изнутри, в ней есть “тайна”, которая дает возможность творческого раскрытия, происходящего только в Боге.
Вследствие первородного греха произошло раздвоение в духовной сфере человека: духовная жизнь «естественно” ищет Бога, и уходит от Него; она требует спасения, которое состоит в восстановлении единства, то есть в благодатном преображении “естества”. Вне благодатной помощи свыше усиливается проявление темной духовности[108].
Грех — через человека — поразил весь тварный мир; отсюда нерасторжимая сопряженность космоса и хаоса, закономерности и случайности, сил единения и распада.
“Натуральная “соборность” человечества по выражению прот. В.Зеньковского, не в силах преодолеть грех; это возможно лишь в благодатной соборности — в Церкви и через Церковь; этим полагается основа и для религиозно углубленного понимания воспитания – как “воцерковление”, через благодатное , в таинствах подаваемое восполнение человека.”[109]
Цель воспитания в свете Православия есть помощь детям в освобождении их от власти греха через благодатное восполнение, находимое в Церкви, помощь в раскрытии образа Божия.
Эмпирическое развитие должно служить цели спасения личности через освящение и преображение эмпирического естества.
Безличное служение добру во имя самоочищения должно быть отвергнуто. Освобождение от греха через Таинство Исповеди является истинным проводником моральной силы.
Эстетическое воспитание должно иметь ввиду две цели: низшую, служащую задачам “развлечения”, и высшую, служащую питанию души через ее приобщение к красоте. Однако эстетическое вдохновение, преображающая сила прекрасного образа должны быть закреплены “трудом” души, в противном случае, оно ведет к расслаблению души и росту безответственности.
Интеллектуальное воспитание, развивая ум, творчество, интуицию, должно развивать и удовлетворять потребность в целостном мировоззрении.
В религиозном воспитании основное место должно принадлежать развитию религиозного “вдохновения”, живой, свободной и всецелой погруженности души в жизнь Церкви. Сердце религиозного воспитания составляют участие в литургической жизни Церкви, рост внутренней жизни, чистое искание жизни, живое приобщение к церковному разуму.
Проведя такой обзор основных принципов построения системы православной педагогики, Зеньковский обобщает смысл православного воспитания: “в воспитании мы “ведем” дитя, помогаем ему достичь такой силы личности, при которой оно достаточно овладевает тайной свободы в себе. Смысл воспитания в том, чтобы уяснить путь спасения, связать детскую душу с Церковью и напитать ее дарами свыше, живущими в Церкви”[110]. Итак, ставя проблему обеспечения связи свободы и добра, Зеньковский искал смысл воспитания в идее спасения. Предлагая строить педагогику на основе христианской антропологии, Зеньковский считал, что и “школа должна быть религиозной, — и не только в своем “содержании”, но еще более во всем своем духе”[111].
Таким образом, в творчестве прот. Василия Зеньковского мы находим не только глубоко и верно раскрытую цель и задачи воспитания, но и ряд хорошо разработанных принципов православной педагогики, среди которых подробнее всего о. Василий рассматривает и раскрывает антропологический принцип. В целом, принципы, предложенные Зеньковским, хотя и не уложенные в четкую систему, представляют большую ценность для православной педагогики в целом, и для нашего исследования, в частности.
В целом, ценность отечественного педагогического опыта для современной школы несомненна. Замечательные русские педагоги применяли на практике разнообразные методы и не всегда их взгляды были одинаковыми. Однако основы педагогических систем были у них едиными: христоцентричность, экклезиоцентричность и антропоцентричность (педоцентричность). Исходя из этих педагогических принципов, можно предположить, что если современная школа хочет вернуться к своим истокам, то она должна использовать опыт и заветы своих предшественников, в деятельности которых мы усматриваем благословение Божие.
ВЫВОДЫ
В исторической части работы мы предприняли попытку проследить появление и развитие отдельных принципов христианской педагогики в первые века христианства, особенно в учении святых Отцов и учителей Церкви, а также в трудах русских учителей и святителей Церкви и в жизни древнерусского народа.
На основании проведенного исторического обзора христианской педагогики можно сделать ряд обобщений и выводов.
Принципиальное отличие православной педагогики от дохристианской состоит в том, что она знает Христа Спасителя, воплотившегося, распятого и воскресшего; и, имея перед собой этот непревзойденный Идеал Педагога, полагает Его в основу всей своей системы как главное Основание, из Которого исходят ее цель, дух, смысл и направленность.
Главная цель христианской жизни — спасение через последование Христу, одинаково обязательное и доступное для всех людей; ближайшая задача каждого человека — сознательное богоуподобление.
Воспитание человека по духу Евангелия есть извлечение его из низменности и чувственности и возвышение его к божественному совершенству. Воспитание должно выработать в человеке не только внешнее доброе поведение, но должно делать человека новым творением Божиим (во Христе мы новая тварь); должно вырабатывать такие внутренние основы жизни, — чтобы доброе поведение воспитываемого было служением Богу в духе и истине, проникало всю душевную жизнь и вытекало из радостной преданности своему Господу, — чтобы отношения человека к Богу были истинно сыновними.
Истинный воспитатель должен прежде воспитать самого себя в истине и добродетели и посредством обретенного служить детям, содействуя их развитию.
Средства воспитания в первые века христианства были общими для взрослых и детей: изучение Священного Писания, наставления, Таинства, упражнения в делах благочестия и молитве, послушание предстоятелям Церкви, соблюдение единства и мира, участие в богослужении.
Лучшим воспитательным средством служит христианская семейная жизнь. Семья — домашняя церковь, где все должно быть устроено по образу Церкви: муж и отец — глава; жена и мать — образец любви к Господу и Матери Божией, кротости и мудрости, трудолюбия; в ребенке уважаются его человеческие права, его человеческая личность, отражающая в себе образ Божий. Со стороны детей требуется благоговейное почитание и послушание к родителям по заповеди Господа. Единение членов семьи в духе, слове, деле, молитве, является благотворным для воспитания детей: они, придя в зрелый возраст, сделаются живыми и плодотворными членами Матери-Церкви. Родители обязаны воспитывать детей преимущественно для жизни вечной, средствами к чему служат: познание Христа Спасителя, Его пример послушания Отцу Небесному и родителям; постоянное чтение и изучение Священного Писания и собственный добрый пример родителей.
Кроме того, воспитательными средствами является рассмотрение видимой природы и человеческой души (самопознание), определение меры знаний человеческого разума и показание значения веры, как необходимого руководства для разума; раскрытие значения Предания Церкви, как основы понимания жизни.
Вне Церкви нет спасения. Для единения верующих в Церкви необходима любовь, твердое исповедание веры, послушание духовному отцу, единство (соборность) в духе и истине.
В Церкви все приводится к прославлению Христа. Родители и воспитатели должны сохранять сердца детей для Господа, раскрыть их разум для разумения дивных дел Божиих, к делу воспитания детей прилагать всю свою душу, и не учить ничему такому, чего сами не старались бы осуществить в собственной жизни, т.е. влиять и словом и примером. Все разумнейшее, достойное уважения людей — в Церкви: наука Божественная, добродетель высшая и разнообразная, братолюбие до самопожертвования, снисходительность до всепрощения, попечение о спасении каждого малого в вере до смерти в поисках заблудшей овцы. В Церкви радость о всем добром и разумном, о спасении ближнего; в Церкви небо сходит на землю, Бог обитает среди людей.
Кратко проследив воззрения и мысли русских учителей об истинно-христианском воспитании, — от Крещения Руси до наших дней, — мы можем с уверенностью утверждать, что у нас, на святой Руси, в основу педагогики всегда полагались православные взгляды.
Наши учителя, говоря о воспитании, охватывают своим взором все возрастные периоды и уровни природы человека, его развития, деятельности и всю его жизнь, начиная с материнской утробы, продолжая младенчеством, отрочеством, юностью, зрелостью и оканчивая его старостью.
Высказанные ими мысли, руководствующие к сознательной разумной и правильной педагогической деятельности, являются такими истинами, которые никогда не теряют своего интереса, — которые, будучи старыми по происхождению, в то же время остаются всегда новыми и в этом смысле вечными.
Подобно святым Отцам, Учителям и пастырям Церкви, лучшие отечественные педагоги являются точными провозвестниками Богооткровенного учения, и в то же время не менее глубокими психологами.
Охватывая все стороны духовно-телесной природы человека, наши учителя отдают главное первенствующее значение его духовной стороне в жизни души.
Жизнь человека, по учению лучших отечественных учителей, должна быть прежде всего жизнью духа, хотя при воспитании следует, конечно, заботиться и о теле, так как душа в условиях земного бытия иерархически связана с телом. Но истинно-христианская педагогика должна заботиться о том, чтобы воспитывать не только для земной жизни, но и для будущей. Земная жизнь есть только временная, приготовляющая к будущей — небесной. Поэтому наши учителя указывают на необходимость воспитывать душу для господства над телом, а тело при должном развитии и укреплении приучать его к подчинению душе, дать перевес духу над плотью.
Итак, важнее всего развитие духа, приготовляющее человека к небу, а это развитие возможно только при правильном религиозно-нравственном воспитании.
И это воспитание должно иметь преимущественно в виду всякому воспитателю, если он стремится воспитать цельного человека.
Нравственный долг воспитателя — слабую религиозность укрепить (а без упражнения и воспитания такая религиозность может даже атрофироваться), мало сознательную — сделать осмысленной и более глубокой, направить на истинный путь, указанный Тем, Кто сказал: никто не приходит к Отцу как только чрез Меня (Ин. 14, 6). Потому что религиозное состояние здесь, на земле, есть начало, залог будущей жизни с Богом и в Боге.
Задача христианского религиозно-нравственного воспитания должна быть определена, как приведение человека к Богу через Христа Спасителя (христоцентричность). А так как это возможно только в Церкви, то обязанность православных педагогов, желающих укрепить и упрочить общение детей со Христом, состоит в том, чтобы направлять души детей под благодатное воздействие Матери-Церкви со всеми ее веками испытанными, религиозно-нравственными средствами (экклезиоцентричность).
Церковный идеал человека — самый широкий и возвышенный: да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3, 17), — вот как выражается он. В целом вся христианская педагогика исторически опирается на основополагающие принципы христоцентричности, экклезиоцентричности и педоцентричности.
Полнота принципов православной педагогики, рассмотренных в теоретической части данной работы, существует в своей совокупности только в новозаветной истории.
Итак, мы можем утверждать, что построение современного воспитания и образования на принципах православной педагогики необходимо и согласно с учением Церкви, древне-христианскими заветами, и историческим преданием нашего народа.
[1] Кошелева О.Е. “Душевное строение” в Древней Руси // Свободное воспитание. — Вып.1. — М., 1992.
[2] Лихачев Д.С.,из вступительного слова к читателям из кн. Антология педагогической мысли Древней Руси и русского государства XIV-XVII вв.-М., Педагогика ,1985, с.7-9.
[3] Памятники литературы древней Руси:XII.М.,1980,с.283
[4] Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен,Ч.II.СПб.,1899, с 427.
[5] Андроник, игумен. Русская духовность в жизни преп. Сергия//Богословские труды. Т.29.- с.230.
[6] Флоренский П., свящ. Троице-Сергиева Лавра. Россия. — В сб.: Троице-Сергиева Лавра. — Сергиев Пасад, 1949. — с.21.
[7] Житие и подвиги преподобнаго и богоноснаго отца нашегоСергия игумена Радонежскаго и всея России чудотворца. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. — с.16.
[8] Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. — Спб., 1885. — с.84.
[9] Ключевский В.О. Благодатный воспитатель народного духа. — Сергиев Посад, 1908. — с.14.
[10] Там же, с.15.
[11] Зайцев Б. Избранное. — Нью-Йорк, 1973. — с.73.
[12] Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. — СПб., 1885. — с.141.
[13] Там же, с.142.
[14] Вобравшем в себя традиционные русские обычаи, и имеющий своей целью, по мнению проф. А.А. Царевского (1898 г.) — “преподать правила веры и благочиния, научить русского человека богоугодному житию, обратить по возможности всю жизнь его в непрестанное богослужение — В кн.: Царевский А.А. Значение Православния в жизни и исторической судьбе России. — с. 44.
[15] Домострой. Сильвестровского извода. — Киев: «Абрис», 1991. — с.134.
[16] Это справедливо отмечает С.Флегонтова в своей, в целом, очень спорной статье «Домострой»: — В кн.: Русская женщина и Православие: Богословие. Философия. Культура. / Под ред. Т.Горичевой. — Спб.: ТО «Ступени», 1996. — с.42.
[17] Домострой. Сильвестровского извода. — Киев: «Абрис», 1991. — с.137-139.
[18] «Утешающий мать свою творит волю Божью и угождающий отцу в благости проживет. Вы же дети, делом и словом угождайте родителям своим во всяком добром замысле и вас благословят они: отчее благословение дом укрепит, а материнская молитва от напастей избавит» . Там же — с.136-137.
[19] О физических наказаниях «Домострой» говорит в духе Ветхого Завета: «Не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти… Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благословение… В малом послабишь — в большом пострадаешь скорбя, и в будущем словно занозы вгонишь в душу свою». — Там же — с.134-136.
[20] Отношения крестьян к ближним воплощали в жизнь поучения «Домостроя», в котором говорится: «печального утешь, со всяким будь обходителен, щедр и милостив, нищелюбив и странноприимен… если обидят — не мсти, если хулят — молись, не воздавай злом за зло, на клевету — клеветой; согрешающих — не осуждай, припомни свои грехи, позаботься прежде всего о них; злых людей отвергни советы, ревнуй живущим по правде, деяния их занеси в свое сердце, и сам поступай так же» — Там же — с.117.
[21] Духовного отца «следует почитать и слушаться во всем, и каяться перед ним со слезами», «советоваться о житии полезном, чтобы удержаться от всяких грехов» — Домострой. Сильвестровского извода. — Киев: «Абрис», 1991. — с.118-119.
[22] Громыко М.М. Мир русской деревни. — М.: Молодая гвардия, 1991. — с 140.
[23] Там же, с.143.
[24] Ключевский В.В. Два воспитания //Антология педагогической мысли России второй половины Х1Х — начала ХХ вв. — М., 1990. — с.396.
[25] Всемирный историко-педагогический процесс в зеркале цивилизационного подхода. -В кн.: Современные проблемы истории образования и пед. науки \ Под ред. Чл.-кор. РАО З.И.Равкина. — Т.1. — М., 1994. — с.106.
[26] Зеньковский В.В., прот. История русской философии. Соч.: в 4-х т. — Т.1., ч.1. — М., 1991. — с.95.
[27] Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России. В кн.: Киреевский И.В. Полн. собр. соч.: В 2-х т. — Т.1. — М., 1911. — с.184, 218.
[28] Всемирный историко-педагогический процесс в зеркале цивилизационного подхода. -В кн.: Современные проблемы истории образования и пед. науки \ Под ред. Чл.-кор. РАО З.И.Равкина. — Т.1. — М., 1994. — с.107.
[29] Там же, с.108.
[30] Феофан, еп. Путь ко спасению. — М., 1899. — с.44.
[31] Там же, с.45.
[32] Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11-ти т. / Под ред. А.М.Еголина. — Т.4.: Детский мир и Хрестоматия. -М.-Л.: Изд. АПН РСФСР, 1948. — с.16.
[33] Там же, с.17.
[34] Ушинский К.Д. — Цит. по кн.: Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1952. — с.59.
[35] Там же, с.78.
[36] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.3. — СПб., 1892. — с.289.
[37] Там же, с.309.
[38] Там же, с.296.
[39] Там же, с.313.
[40] Там же, с.308.
[41] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.3. — СПб., 1892. -.с.313-316.
[42] Феофан, еп. Путь ко спасению. — М., 1899. — с.41.
[43] Там же, с.256.
[44] Феофан, еп. Путь ко спасению. — М., 1899. — с.28.
[45] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.4., с. 193.
[46] Феофан, еп. Ук. соч., с.44.
[47] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.3. — СПб., 1892. — с.287.
[48] Цит. по кн.: Еп. А.Семенов-Тянь-Шаньский. Отец Иоанн Кронштадтский. — Обнинск: Принтер, 1995. — с.52.
[49] Вопросы религиозного воспитания и образования. — Вып. 1. — Париж, 1927. — с10.
[50] Там же, с.12.
[51] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.1. — Спб., 1893. — с.418.
[52] Там же,. с.302.
[53] Поэтому так важно сохранение чистоты языка. Сегодняшняя вульгаризация и огрубление языка свидетельствует об общем внутреннем состоянии нашего народа. Поэтому так важно не переведение богослужения на современный русский язык (о чем ратуют многие), а изучение в школах древнего языка нашей веры.
[54] Пирогов Н.И. — Цит. по кн.: Пирогов Н.И. Избранные пед. сочинения. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1952. — с.32.
[55] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.1. — СПб., 1893. — с.297.
[56] Там же, . с.297.
[57] Там же, с.. 302-303.
[58] Там же,с.306-307.
[59] Там же,с.300.
[60] Там же, с.302-303.
[61] Цит. по кн.: Смирнов П.А. Ук. соч., с.21.
[62] Феофан, еп. Мысли на каждый день. — с.215.
[63] Пирогов Н.И. Избранные пед. сочинения. — М., 1952. — с.83.
[64] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.3. — СПб., 1892. — с.312.
[65] См.: Сурский И.К. Ук. соч., с. 49.
[66] Об этом писал в свое время В.Розанов: «около храма, около богослужения, около религии, школа — лишь незначительная пристройка, внутренний притвор». — Цит. по кн.: Константин (Зайцев), архим. Памяти последнего царя. // Литературная учеба. Январь-Февраль, 1993. — с.72.
[67] Неплюев Н.Н. Полное собрание сочинений. Т.IV. — СПб., 1902. — с.32.
[68] Вот текст этой молитвы: «Господи, любовью наполни сердца наши. Дай нам любовь к друзьям — воспитателям нашим; дай нам любовь к братьям — товарищам нашим. Господи, любовью наполни сердца друзей-воспитателей наших; помоги им воспитать нас людьми разумными, добрыми и честными. Господи, любовью наполни сердца всех людей, дай нам любовь к ближнему своему, дай нам любовь к добру и правде; дай нам жалость к горю ближнему своему, в любви — мудрость наша, в любви — наша тихая радость». — Неплюев Н.Н. Ук. собр. соч. Т.III. — с.414.
[69] Неплюев Н.Н. Полное собрание сочинений. Т.III — СПб.,1902. — с.421.
[70] Неплюев Н.Н. Полное собрание сочинений. Т.IV. — СПб., 1902. — с.32.
[71] Феофан, еп. Путь ко спасению. — М., 1899. — с.30.
[72] Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. — М.: Паломник, 1994 — с.48.
[73] Там же, с.42-44.
[74] Феофан, еп. Путь ко спасению. — М., 1899. — с.30.
[75] Пирогов Н.И. Избранные пед. сочинения. — М., 1952. — с.156.
[76] Там же, с.56.
[77] Там же, с.55.
[78] Зеньковский В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. — М., 1993. — с.148.
[79] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.3. — СПб., 1892. — .с.312.
[80] Пирогов Н.И. Избранные пед. сочинения. — М., 1952. — с.156.
[81] Ушинский К.Д. Собрание пед. сочинений. — СПб., 1875. — с.227.
[82] Феофан, еп. Путь ко спасению. — М., 1899. — с.39.
[83] Феофан, еп. Путь ко спасению. — М., 1899. — с.64.
[84] Там же, с.250.
[85] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.4. — СПб., 1893. — с.53.
[86] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.3. — СПб., 1892. — с.289.
[87] Там же, с.289.
[88] Там же, с.291.
[89] Там же, с.309-310.
[90] Там же, с.289.
[91] Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11-ти т. /Под ред. А.М.Еголина. — Т.4. — с.14.
[92] Феофан, еп. Путь ко спасению. — М., 1899. — с.24.
[93] Там же, с.64.
[94] Пирогов Н.И. Избранные пед. сочинения. — М., 1952. — с.58.
[95] Пирогов Н.И. Избранные пед. сочинения. — М., 1952. — с.205.
[96] Там же, с.65.
[97] Ушинский К.Д. — Цит. по кн.: Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1952. — с.25.
[98] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.3. — с.306.
[99] Там же, с.288.
[100] Ушинский К.Д. — Цит. по кн.: Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1952. — с.15.
[101] Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. — М.: Паломник, 1994 -с. 49.
[102] Сергиев И.И., прот. Полное собрание сочинений. — Т.3. — с.308.
[103] Пирогов Н.И. — Цит. по кн.: Пирогов Н.И. Избранные пед. сочинения. — М., 1952 -с.58.
[104] Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11-ти т. / Под ред. А.М.Еголина. — Т.8.: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. — М.-Л.: Изд.АПН РСФСР, 1950 — с.12.
[105] Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11-ти т. / Под ред. А.М.Еголина. — Т.8.: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. — М.-Л.: Изд.АПН РСФСР, 1950. — с.24.
[106] Зеньковский В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. — Paris, 1934.с.149-155
[107] Зеньковский В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. — М., 1993. Глава 7. «Принципы православной педагогики». — с.149-155..
[108] Там же.с.151.
[109] Там же.с.152.
[110] Зеньковский В.В., прот.. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. — М., 1993. Глава 7. — с.155..
[111] Зеньковский В.В., прот. Предпосылки строительства новой школы. // Бюллетень педагогического Бюро по делам средней и низшей русской школы за границей. — Прага, 1923. — N 2. — с.21,22,24
(1859)